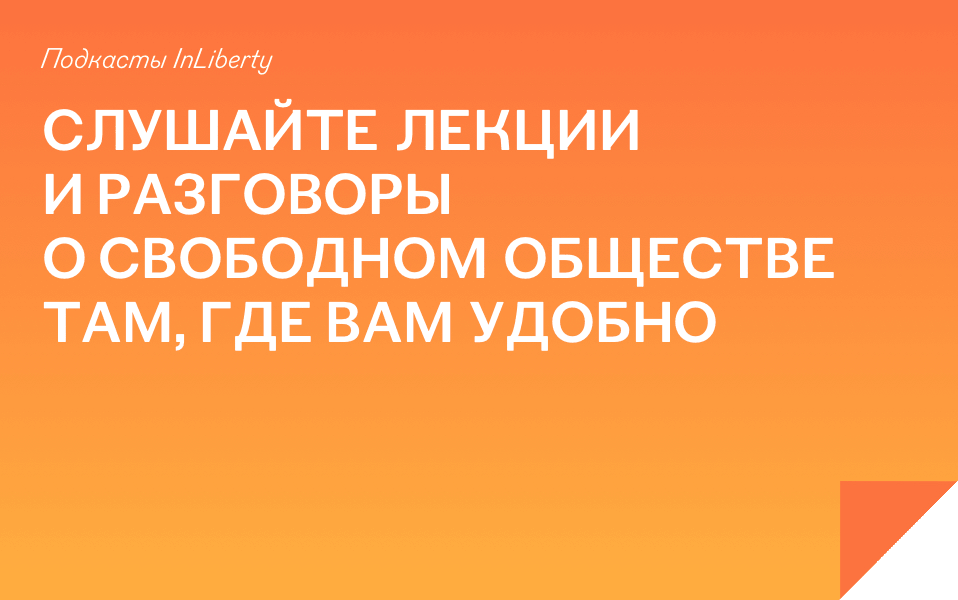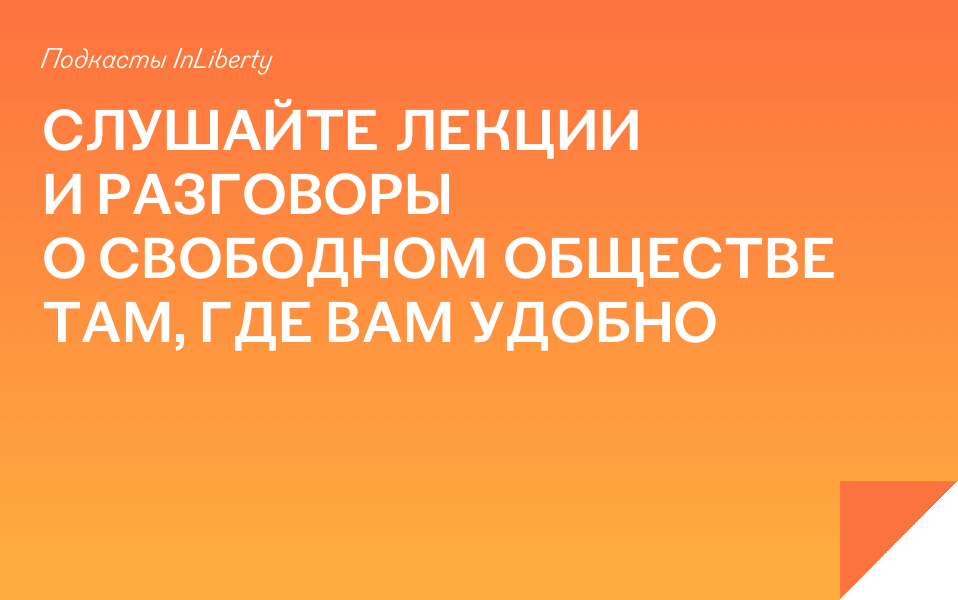15.02.2019
Новостепад
Новости. Они повсюду. Имеются в виду не новости-новости, а «новости» как особый летучий жанр ущербной, но по-своему знаменательной словесности.
Можно, конечно, постараться их не видеть и не слышать. Но они капают за шиворот, они, куда ни повернешься, оскорбительно дуют прямо в лицо, а в тишине и темноте они пугающе громко хрустят под ногами, как не убранные на ночь пластмассовые детские игрушки.
Они падают сверху, как нескончаемые осадки в виде дождя или снега.
Наиболее мнительные и склонные к конспирологии граждане пытаются спасаться от реальных или мнимых катастрофических последствий неконтролируемого «новостепада» посредством пресловутых «шапочек из фольги».
Другие ловят их горстями, рассматривают на свет, гадают, что сей сон значит, делятся друг с другом версиями и догадками, одна другой фантастичнее и несуразнее.
Третьи, как я, например, по возможности игнорируя, если можно так выразиться, содержательную их сторону, любуются их никем не предусмотренными, но от этого еще более выразительными и выпуклыми художественными особенностями.
Их стилистика, их лексика, фразеология, синтаксис, конечно же, намного интереснее их смыслового наполнения, как правило резво стремящегося к нулю.
Особенно, конечно, хороши бывают новости, касающиеся не магистральных путей-дорог мировой и местной политической и общественной жизни, а те, что приковыляли откуда-то сбоку, со стороны тускло освещенной периферии, со стороны чего-то такого, что, сто раз пройдя мимо, не очень-то и заметишь.
Именно они отзываются порывистыми всплесками дремлющего до времени воображения и дерзкого фантазерства. Именно их хочется азартно толковать и перетолковывать, вводя за руку в контекст собственного социального, художественного, чувственного опыта.
Какие-то из них непостижимы, как дзенский коан.
Ну, например.
«Олимпийская чемпионка избила елкой директора школы, названной в ее честь».
Вот что это?
Мне кажется, что эта и подобные этой речевые конструкции — особенно если какое-то их количество удастся собрать вместе — идеально подходят для школьного диктанта.
Там ведь что хорошо! Вообще-то, там все хорошо. Но особенно хорошо там то, что для учащегося нет не только никакой необходимости, но даже и никакой возможности вникать в содержание этих удивительных фраз, а поэтому он может полностью сосредоточиться на орфографии и пунктуации.
Какие-то из новостей прекрасны не столько сами по себе, сколько своей способностью пробуждать воспоминания, подчас связанные с ними не прямо, а лишь косвенно и к тому же весьма приблизительно.
Так, какая-то из недавних и, разумеется, нелепых новостей театральной жизни разбудила и во мне некое давнее воспоминание. Воспоминание из жизни тоже, в общем-то, театральной. Воспоминание не то чтобы сильно значительное, но для меня вполне драгоценное.
В общем, вот.
Получилось так, что мне посчастливилось в пределах довольно короткого времени (с интервалом примерно в полгода) ознакомиться с двумя лаконичными, очень емкими и совершенно, на мой взгляд, конгениальными друг другу театральными рецензиями.
Рецензии эти были устными и спонтанными, но мне до сих пор они кажутся непревзойденными образцами рецензионного искусства.
Это было довольно давно. Лет, наверное, двадцать тому назад. Я шел по Тверскому бульвару мимо одного из театров, и в этот как раз момент на улицу выходила публика после спектакля. В основном публика была молчаливой. Но не вся.
Мимо меня прошла парочка — мужчина и женщина. Мужчина сказал: «Пять лет в театре не был. Сходил!»
Блеск, по-моему!
В другой раз — тот же (что любопытно) театр, такой же театральный разъезд, и снова прошедшая мимо меня пара, хотя и другая. В этот раз автором (авторкой?) не менее мощной рецензии была женщина, сказавшая: «Ведь я ж тебе говорила! А ты: „Пойдем, пойдем“».
Мне не хочется сравнивать между собой два эти шедевра театроведческой мысли в пользу одного из них. Пусть, как говорится, рассудит история.
Когда же я прочитал о том, что «Мосгорсуд восстановил бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ», я совершенно, казалось бы, некстати вспомнил, как когда-то, в конце 80-х годов я увидел афишу, сообщавшую о том, что в таком-то выставочном зале открылась выставка «авангардистов Калининского района г. Москвы».
А еще я вспомнил, что знал когда-то одного унылого и ужасно обидчивого стихотворца, который, оглашая свой послужной список, сообщал с какой-то обреченной гордостью, что его стихотворения публиковались в альманахе под названием «Литературное Захопёрье».
Информационное пространство принимает все более отчетливые очертания циркового манежа. А в ролях бимов и бомов выступают поочередно (чтобы не слишком примелькаться) разные исполнители. Их иногда называют нарядным словом «ньюсмейкеры».
Вот, например, я прочитал однажды, что «Дмитрий Рогозин пообещал проверить, высаживались ли американцы на Луну».
И подумал я о том, что было бы неправильно и даже жестоко нарушать хрупкую гармонию, царящую в этом театре теней, что не надо бы бестактно и грубо интересоваться, как и каким образом будет осуществляться эта проверка. Не надо, нехорошо это.
И уж тем более не надо публично выражать свое неизбежное изумление, когда вскорости вы прочтете о том, что тщательная проверка была г-ном министром проведена и что в результате этой проверки выяснилось, что никаких американцев на Луне, разумеется, не было, что, впрочем, было понятно и без всяких проверок.
Да и самой Луны, кстати, не было и нет. И понятно ведь, что г-н министр вслед за несчастным гоголевским героем «ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается».
Это, допустим, министр. Но чаще всего в последнее время в роли таких ньюсмейкеров выступают депутаты, народные, как говорится, избранники. Они как-то особенно падки на публичные проявления своих выдающихся интеллектуальных и моральных достоинств.
Когда я слышу или читаю о различного размера, вкуса и запаха депутатских инициативах, направленных на установление исключительного уважения по отношению к ним же самим со стороны всех слоев населения, причем уважения, закрепленного на законодательном уровне, я не могу не вспомнить об одной русской идиоме, широко используемой в далекие пушкинские времена.
Эту идиому, несмотря на то что она давно уже вышла из повсеместного употребления, знают все те, кто помнит третью строчку самой первой «онегинской строфы», то есть более или менее — все.
Тень Пушкина — что, в общем-то, и прекрасно — витает, хотя и в сильно искаженном виде, над этим причудливым миром новостей, новостей из сказочного «Захоперья».
На днях — на манер моего кота, имеющего неприятную привычку сигать со шкафа мне на живот, когда я еще досматриваю утренний сон, — на меня с утра пораньше прыгнула такая по-своему благая весть:
«Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой расследовать обстоятельства гибели поэта Александра Пушкина».
С одной стороны, это хорошо, сразу же подумал я. То есть что значит «с одной стороны»! Со всех сторон это хорошо и, главное, своевременно.
Во-первых, эта инициатива непременно взбодрит слегка угасающий в свете бурных событий нынешних времен общественный интерес к жизни и творчеству великого нашего соотечественника.
Во-вторых, она непременно запустит коллективную историческую память и коллективную сетевую фантазию на темы отечественной и мировой истории.
Почему бы, подумал я, не подключить Следственный комитет, снискавший прочную репутацию квалифицированного и объективного государственного органа, и к прочим неясным историческим обстоятельствам.
Много белых пятен, например, в истории, ставшей достоянием широких слоев общественности благодаря широко известному живописному полотну Ильи Репина. Что там на самом деле произошло между двумя Иванами — отцом и сыном — без участия Следственного комитета вряд ли удастся разобраться. А ведь надо бы! Пора бы уже, между прочим!
А с московским пожаром 1812 года разве все понятно? Так ведь и будут лохи-историки гадать на кофейной гуще, что да как, пока специалисты из Следственного комитета не поставят точки над «i» в этой мутной истории, в которой, кстати, хорошо заметны следы деятельности некоторых нежелательных организаций.
А о конфликте между Каином и Авелем депутату парламента никогда не приходило в голову задуматься? А ведь, между нами говоря, ох как неоднозначно все там было.
В-третьих, эта инициатива, если, конечно, она найдет отклик в кабинетах Следственного комитета, может оказаться перспективной в смысле казенного финансирования, а также возникновения новых важных структурных новаций — то ли Следственного отдела при Институте русской литературы — Пушкинском доме, то ли Отдела криминальной пушкинистики при Следственном комитете РФ.
Пушкина, конечно, не вернешь. А вот бюджеты… А вот должности…
Одним словом, как написал Осип Мандельштам уже очень давно, но, как выясняется, на все времена, «грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов». И это давно уже никакая не новость.