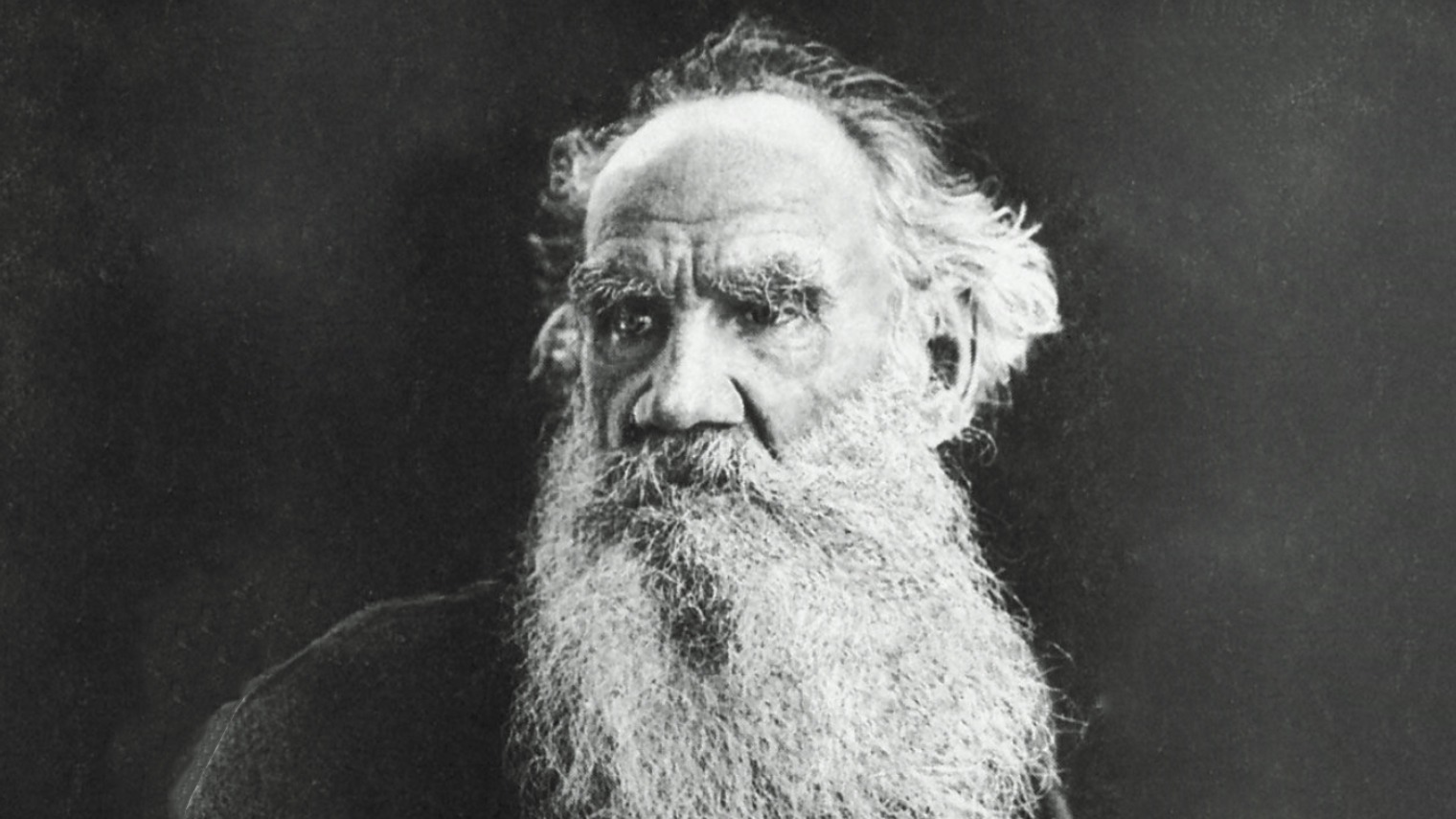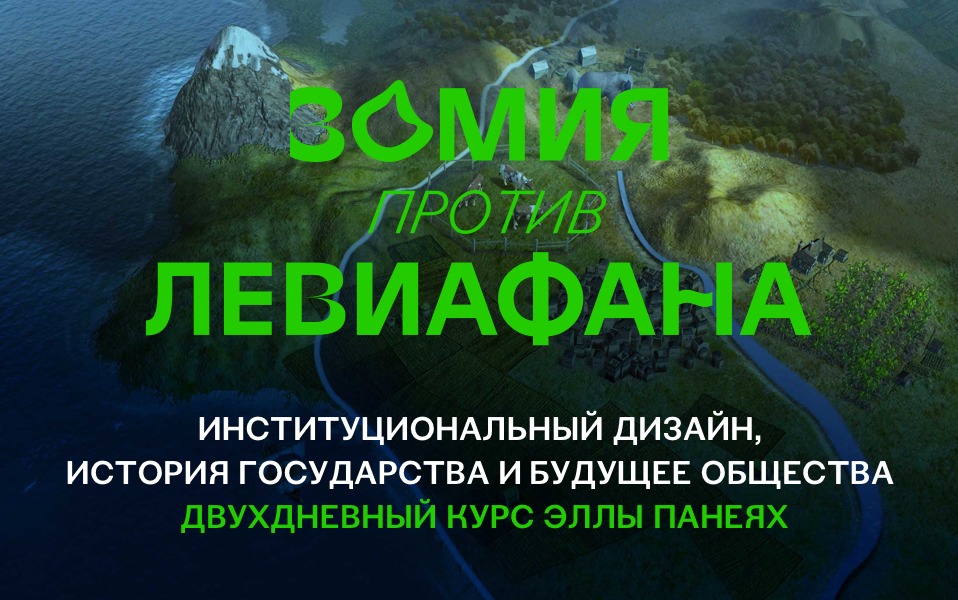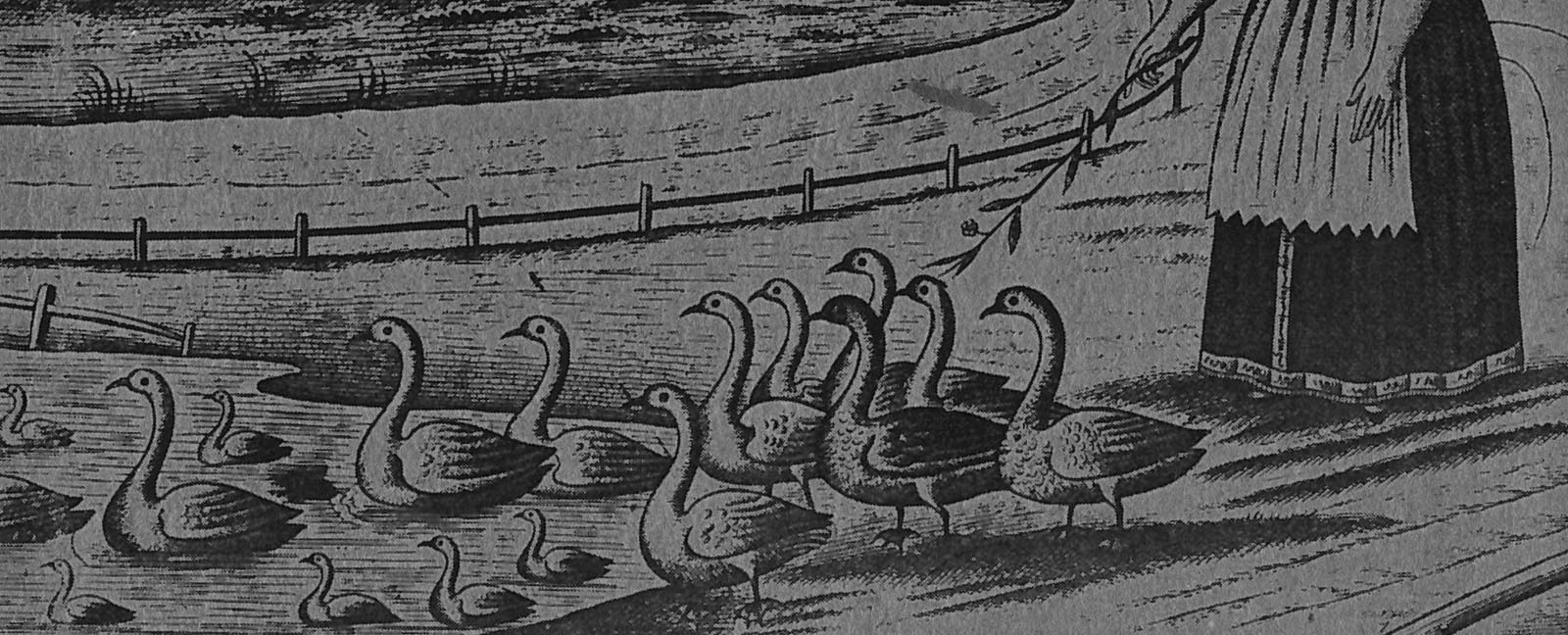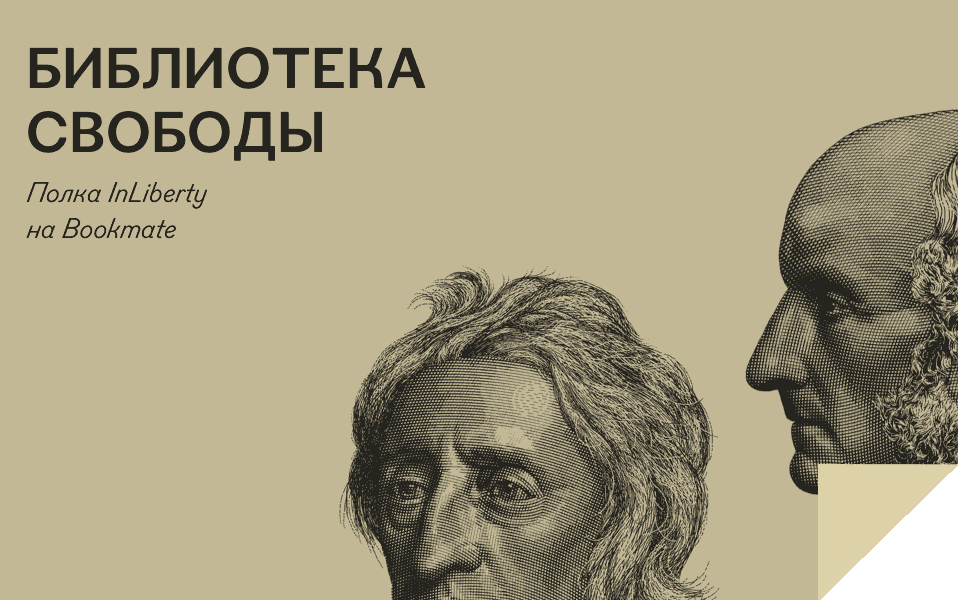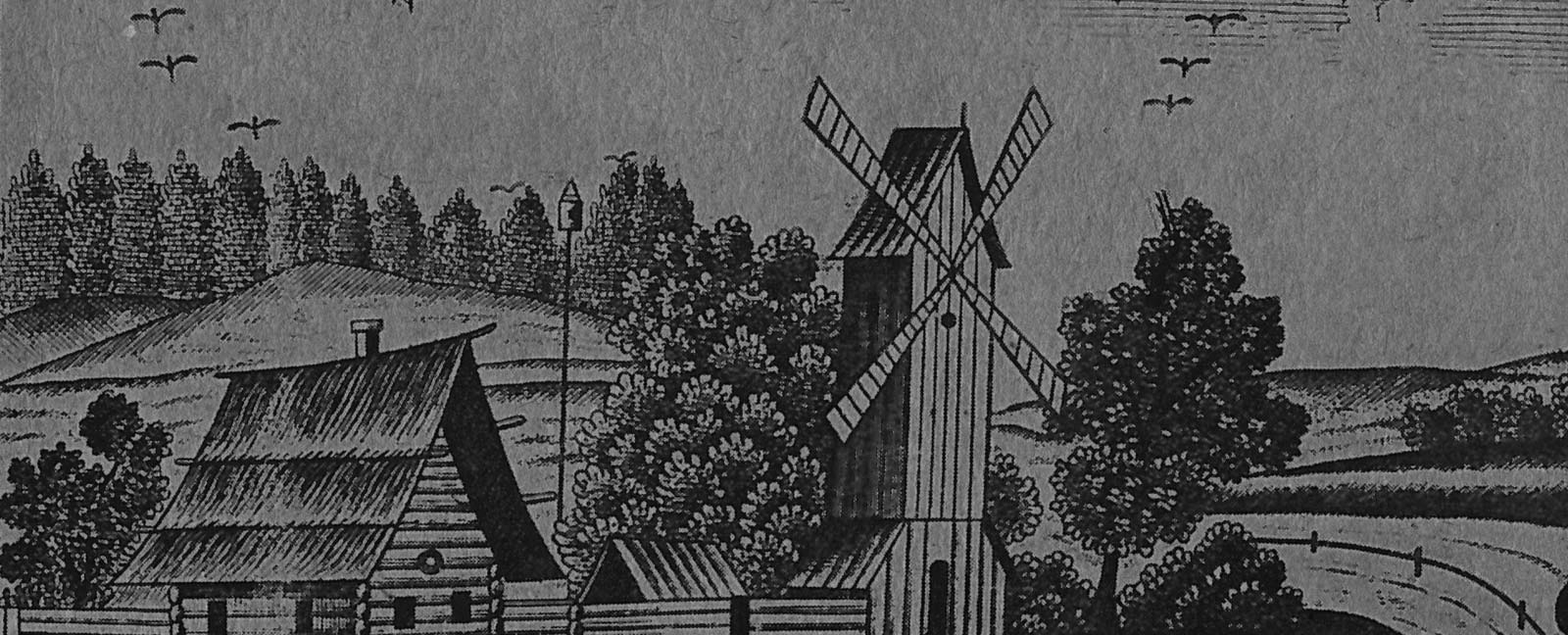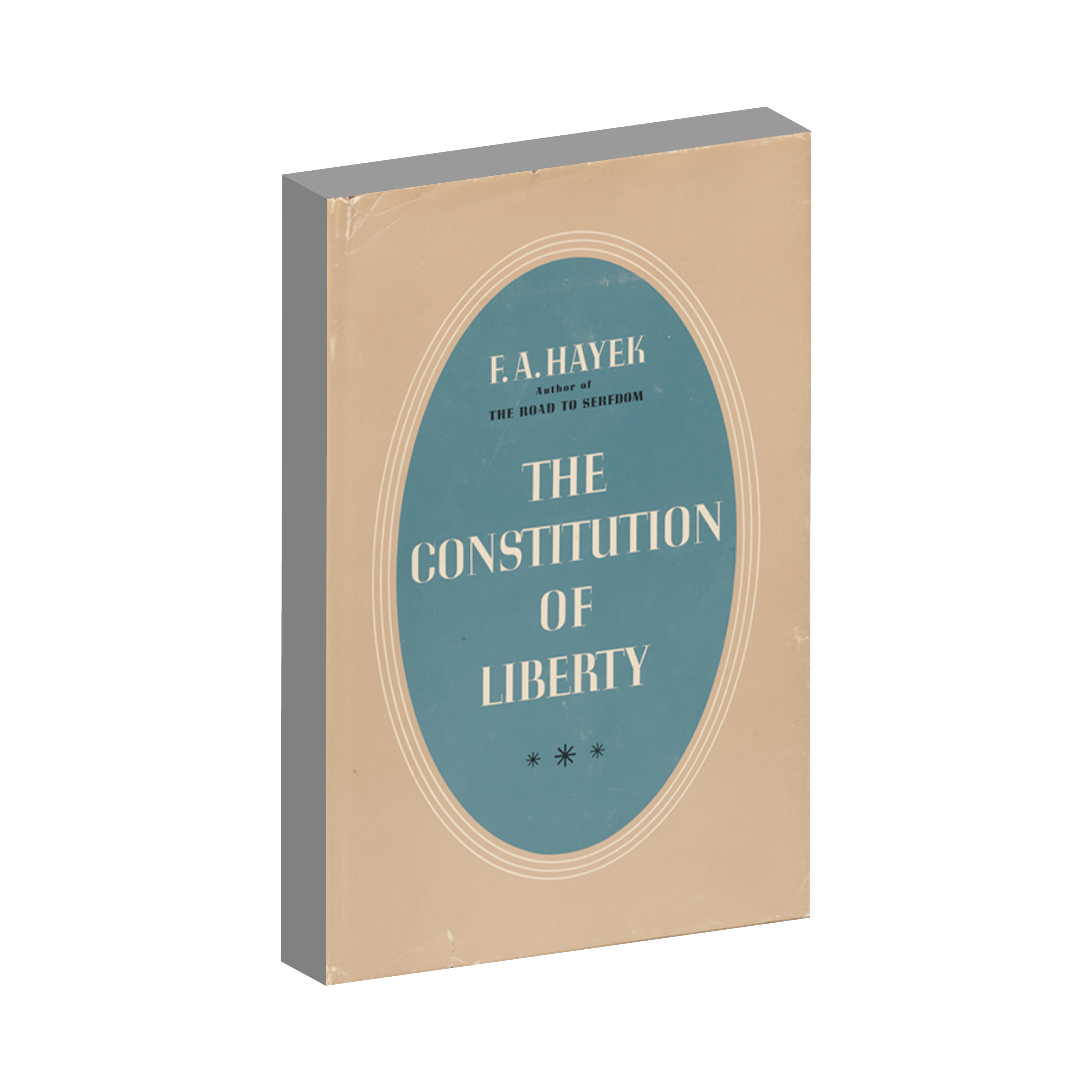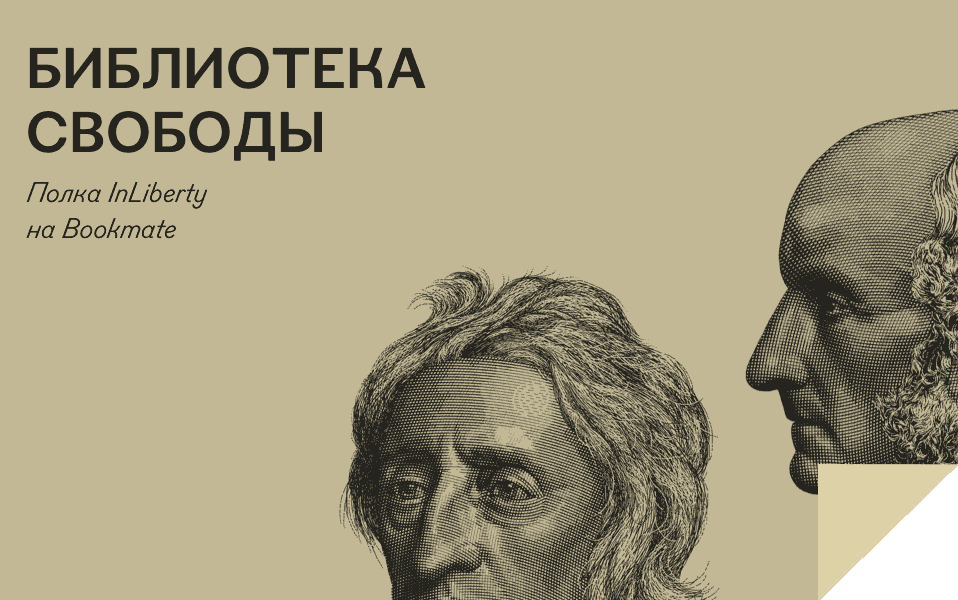1
«Наша реальность — это ответ на усилия государства»
Симон Кордонский — об устройстве жизни «на самом деле»

Социолог, профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский в свое время говорил о необходимости различать то, что «в реальности», и то, что «на самом деле». Он и его коллеги с тех пор немало потрудились, исследуя то, что в России происходит «на самом деле»: как люди живут и работают вне поля зрения государства, как расплачиваются за ресурсы, как стихийно распределяются по сословиям и иерархиям, которых по закону не существует. Симон Кордонский рассказал InLiberty о том, как устроено сосуществование в России двух нормативных систем и можно ли их объединить в одну.
Можно ли всю эту жизнь вне государства, всю эту внеправовую реальность, все это ничейное и кем-то захваченное вывести на свет и ввести в единое правовое поле?
У вас установка на презумпцию легальности, на прозрачность деятельности граждан для государства. Но на пользу гражданам такая прозрачность не идет прежде всего потому, что само государство для граждан непрозрачно и во многом действует нелегально. Или не нелегально, а просто бессознательно, то ли рефлекторно, то ли инстинктивно. Непредставимый объем номинально государственного имущества официально не имеет хозяина, но неофициально у любой вещи есть хозяин. Государство явно не справляется с управлением тем, что оно считает экономикой. Поэтому более адекватной была бы задача перевода управления из официального и ублюдочного правового поля в то, которое государство не признает существующим, в то пространство, где люди живут по понятиям.
Без государства
Антрополог Джеймс Скотт в книге «Искусство быть неподвластным» описал анархическую цивилизацию Зомию в Юго-Восточной Азии, где десятки миллионов людей укрывались от государства и его институтов (см. подробнее в интервью Николая Ссорина-Чайкова ниже). Экономист Эрнандо де Сото в книге «Иной путь» рассказал, как бремя избыточного государственного регулирования в Перу выдавило из легального поля огромную долю национальной экономики.
У реальности, описываемой Джеймсом Скоттом и Эрнандо де Сото, люди существуют в едином правовом поле. Первый описывает, как из него бегут, второй ставит задачу введения всех отношений в правовое поле. А у нас два разных поля: официальное и понятийное. Это принципиальное отличие нашей реальности от тех феноменов, которые описывают Скотт, де Сото и множество других исследователей.
У нас сформировались две нормативные системы. Одна официальная, опирающаяся на закон, и другая, построенная по понятиям. Они существуют в одном и том же пространстве, в одних и тех же людях. Люди раздвоены: они живут по понятиям, но интерпретируют поведение окружающих в терминах закона. И с их точки зрения получается, что все нарушают закон.
Откуда взялась у нас эта раздвоенность?
Реальность, о которой я говорю, возникла как реакция на перманентные модернизирующие усилия государства. И такого, как я понимаю, нигде не было. Начиная, вероятно, с петровских времен у нас сплошная модернизация. Сталкиваясь с этим, люди пытаются выживать. Жизнь по понятиям — это жизнь-выживание, жизнь промысловая. Промысловик — это человек, который сегодня монтирует ЛЭП на 10 киловольт, завтра копает сортиры, а послезавтра идет на пушной или лесной промысел. Это не фриланс. Фрилансер ищет работу по специальности, а промысловики осваивают специальности. А когда появляются конкуренты (у нас сейчас это китайцы), они переходят в другие промыслы. И так десятки миллионов людей живут.
Это распределенный образ жизни. Дача, гараж, погреб, квартира. Где концы удобно прятать, где человека не за что схватить. Это способ ухода от государства, модернизирующего по импортным образцам все, что ему под руку попадет.
Когда сложилась эта реальность, в постсоветское время или раньше?
Мне кажется, эта раздвоенность — между законом и понятиями — была всегда. В советские времена, например, партийная организация решала проблемы не по советскому закону, а по партийной совести, то есть по понятиям. Как на партбюро решались все проблемы, так они до сих пор и решаются, только вместо бюро — то, что мы называем гражданским обществом служивых людей. Люди, имеющие статус в системе, собираются в бане, в ресторане, на охоте, на рыбалке, гуляют вместе — и решают проблемы.
Жизнь по понятиям
Принципы, в соответствии с которыми так или иначе живут очень многие в современной России, крайне мало исследованы. Слово «понятия» в этом его значении восходит к уголовной и тюремной культуре, но сегодня его можно услышать и от чиновника высокого ранга. Попытку описать «понятия» применительно к уличным молодежным группировкам предприняла недавно социолог из Лондонского университета Метрополитен Светлана Стивенсон — ее книга так и называется, «Жизнь по понятиям».
Есть и очень интересный институт автономизации сообществ, живущих по понятиям, по социальному времени. У муниципального района, например, есть собственное течение времени, только частично совпадающее с государственным. Оно определяется днями рождений, в частности, значимых для районного сообщества людей и разными памятными датами. Люди собираются в такие локальные праздники вместе, пьют, закусывают и решают проблемы.
Причем дни рождения не обязательно местных начальников, скорее значимых людей. В любой администрации есть какой-то незаметный человек, кадровик, секретарь, который ведет книжечку памятных дат. В книжечке написано: такого-то у Ивана Ивановича день рождения, а такого-то у других значимых людей серебряная свадьба. Если начальник милиции в почете, хороший мужик, то соберемся, будем праздновать День милиции.
Это осознано? Люди понимают, что живут в двух системах?
Часто это и осознано, и отрефлексировано. Весной прошлого года у нас со студентами была экспедиция в один из районов Тверской области. Глава районной администрации на 10-й минуте разговора сообщил студентам (половина юристы, половина госуправление): «Мы живем по понятиям. А закон — это для оформления уже совершенных действий».
Это не только осознается, но и используется. Для государства, которое смотрит из центра на этот район, он предстает зоной стихийного бедствия: низкие зарплаты, безработица, возможный рост социальной напряженности. Но эта информация, которую генерируют сами районные чиновники в отчетах центру, не более чем послание: дайте деньги, иначе замаетесь с нашими проблемами разбираться. Но на самом деле люди не так плохо живут. При официальной мизерной зарплате цены там не сильно отличаются от московских. У них там клюква, а на клюкве можно за сезон заработать, допустим, на «шевроле». Там охота. Там лес, который вырос на заброшенных землях сельхозназначения, который заготавливается, обрабатывается и экспортируется. Естественно, что это все совсем даже не по закону, а по понятиям.
Численность населения района 15 000 человек, около 300 поселений. На все это — девять участковых, из которых шестеро работают в кабинетах, то есть на 300 поселений три участковых. Есть прокурор, примерно мой ровесник, за 60 лет, злой на всех. Всех, говорит, сажать нужно. Там есть судья, одна на два района, хорошая, судит по справедливости. И есть нотариус, решала, все идут к ней — она решает проблемы. Иными словами, плотная, насыщенная жизнь, роль в которой закона и его представителей пренебрежимо мала по сравнению с понятиями.
Кто судьи и на какие нормы они ссылаются, когда есть конфликт, который нужно разобрать?
Их называют авторитетами, смотрящими. Они могут сказать: «Не по чину взял», «Не отдарился», «Тебе дали возможность, ты ею воспользовался, но дара с твоей стороны не было». Понятие возникает в момент разборки: «Ты ведешь себя не по понятиям». С некоторыми из арестованных и посаженных губернаторов наверняка была эта ситуация: ему сказали делиться. А он, может, даже и делился, но недостаточно, брал не по чину.
Но раз писаных норм нет, разрешение конфликтов по понятиям предполагает большую непроговоренность и произвол в принятии решения…
Это связано еще и со структурой русского языка, который трехдиалектный. Есть официальный язык, язык документов, — это то, что нам говорит власть. Есть язык отрицания официальности, язык истины, сахаровский язык. Это язык, на котором кричат на протестных акциях. И есть мат.
Только владея всеми тремя диалектами, можно понять, что имеет в виду собеседник. Сделать мат официальным не получится. То, что первые лица государства, общаясь с народом, переходят на арго, свидетельствует о том же. Это проблема культурная, очень сложная. Возникающие договоренности невозможно прописать в официальном языке, поэтому они не кодифицируются.
Я бы сказал, что значимым компонентом проблемы является еще и наносная, привнесенная культура. Сейчас — рамка английская, которая транслируется системой образования. На английском языке, который воспринимается профессиональным сообществом экономистов, социологов и обученных ими управленцев как родной, нельзя описать то, что происходит здесь. Это не позволяет нам называть отношения, в которых мы живем, своим языком, не позволяет даже выработать этот язык. То есть язык вырабатывается, но с использованием мата.
Что такое коррупция в такой системе?
Самой коррупции я не вижу. Она возможна только на рынке, в отношениях между рынком и государством. Поскольку у нас в полной мере нет ни того ни другого, то происходящее лучше описывать не как коррупцию, а как сословную ренту. Гораздо существенней то, что борьба с несуществующей коррупцией постепенно превратилась в очень доходный промысел служивых людей, в средство передела отношений доступа к государственным ресурсам.
Закон у нас не признает сословий и иерархий. Кто главнее — прокурорские или судейские? Следственный комитет или гражданские госслужащие? Ясности нет, поэтому они и иерархизируются естественным образом, причем на каждой территории по-разному. Где-то прокурорские под чекистами, а где-то — под Следственным комитетом. Чтобы узнать, кто выше в иерархии, нужно понять, кто кому платит, кто кому оказывает услуги. Кто выплачивает ренту, тот в положении подчиненного сословия, низкостатусного. Рента — единственное, что связывает государство в единое целое.
Сидел как-то на одном сборище рядом с генералом из МВД. Выступала Елена Панфилова, борец с коррупцией, и рассказывала про откат как форму коррупции. Генерал слушал, слушал, а потом толкает меня в бок и говорит: она дура, что ли? Если отката не будет, все остановится. Откат — это и есть рента. Ресурсы не распределяются бесплатно. Претендентов на ресурсы много, среди них конкуренция. Кто получит доступ? Человек, который получает ресурс, откатывает часть дающему. Это аналог ставки банковского процента, причем довольно близкий, с моей точки зрения. Там есть цена денег, которые через иерархию банков поступают в розницу, причем на каждом уровне своя. А у нас то же самое с ресурсами. Есть монополист — государство, которое распределяет ресурсы. И каждый получающий ресурсы откатывает их часть в какой-то форме дающему.
В рыночной системе регулирующим механизмом служит ставка банковского процента, а у нас — репрессии. Чем выше уровень репрессий, тем ниже норма отката. И соответственно экономика крутится. В сталинские времена был высокий уровень репрессий и минимальная норма отката. Репрессии как система исчезли, и норма отката выросла. И экономика (то, что мы называем экономикой) не развивается: ресурсы осваиваются в ходе распределения. Сейчас есть репрессии, но они эпизодические, демонстративные и не уменьшают норму отката. А если откатить нельзя, то ресурсы могут оставаться неосвоенными. Посмотрите на размер неосвоенных средств в конце финансового года. Если есть страх репрессий, то ресурсы не доходят до мест, они просто не распределяются. В начале двухтысячных, например, на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения в республике Алтай были выделены весьма существенные деньги, но под жестким контролем государства. Через три года выяснилось: последствия катастрофы ликвидированы, но выделенные государством деньги не освоены, так и лежат на счетах. Потому что их нельзя было распределить по понятиям.
Освоение ресурсов в сословном обществе
У Симона Кордонского и сложившегося вокруг него круга исследователей особая оптика и своя терминология. Организация российского государства — ресурсная, считает Кордонский. Ресурсы в его понимании — не то, что продается и покупается (тогда это был бы товар), а то, что отчуждается, распределяется, хранится, списывается. Внешняя реальность товаров и денег — ложная, считают исследователи. «На самом деле» главная форма использования ресурсов — освоение. А власть — это манипулирование ограниченным ресурсом. Органы власти отчуждают ресурсы у одних элементов системы и распределяют другим, но так, чтобы всегда сохранялся дефицит ресурсов, рычаг власти.
Фактический распорядитель ресурсов, начальник, как бы он ни назывался, «на самом деле» является помещиком, а его округ — поместьем. Общество распадается на сословия, которые формируются по традиции и по отношению к процессам распределения и освоения ресурсов. Эти понятия описаны в работах Кордонского «Ресурсное государство» (2007), «Сословная структура постсоветской России» (2008), «Россия. Поместная федерация» (2010).
Правильно ли понимать, что лозунг «врагам — закон» в этой системе особенно актуален?
Если человек действует не по понятиям, то его переводят под закон. Это не анархия. Это очень жесткий порядок — жизнь по понятиям. Раньше за нарушение понятийных норм стреляли, а сейчас подводят под статью Уголовного кодекса.
Почему все-таки вы уверены, что «либеральная установка» на введение правового порядка бессмысленна, плоха, неверна?
Это не бессмысленно и не плохо, а просто от другой стенки гвоздь. Понятно стремление людей, которые читают переводную литературу и выискивают аналоги у нас, навести какой-то порядок. Но, к сожалению, наша реальность совсем не описана, аналогии с иностранной реальностью ущербны, и действия государства, построенные на импортной логике, мягко говоря, неэффективны.
Какая все-таки проблема с созданием общего правового режима, который учел бы интересы всех?
У нас тысячи законов, которые весьма противоречивы. Есть еще кодексы. Но, например, Лесной и Земельный кодексы часто противоречат друг другу, причем серьезно. Чиновник на месте вынужден выбирать между применением закона. Вот было у нас сельское кладбище, эта земля не муниципальная, а непонятно какая. На ней вырос лес, и по закону, по кадастру, эта территория отнесена к лесному фонду, но людям хоронить-то надо. Вот вам и общеправовой режим; и так в любом деле. Эти проблемы нельзя решить по закону, поэтому они решаются по понятиям.
Разумные люди всегда говорили, что не нужно торопиться с кодификацией. Нужно провести систематизацию законодательства, убрать противоречия. Но все равно поторопились, сделали кодексы. Ни один из них не работает в полной мере. У нас нет общего правового пространства. Оно разорвано, противоречиво и внутренне конфликтно.
То есть вы говорите о правовом признании второго, понятийного порядка?
Я бы говорил о сосуществовании этих порядков. Это же лента Мебиуса. Они на одной стороне ленты находятся, только не пересекаются. Похоже ли это на ситуацию с обычным правом, которое постепенно описывалось?
Нет, не похоже, потому что понятийный язык непереводим на правовой. Обычное право, когда оно переводится на язык юридического текста, становится законом. Но язык понятий непереводим в юридический текст, потому что его нет. Даже воровской закон существует в писаном виде — в малявах, а понятийный язык — нет.
И что с этим делать?
Жить и понимать, как это все устроено. А всякие фантазии о построении рынка и разрабатываемых всякими импортерами понятий реформах нужно забыть. Рынок сам возникает, когда государство уходит из регулирования и реформирования. Государство хочет нам всего хорошего и поэтому ломает уклад жизни каждым своим шагом, каждым новым законодательным актом, а людей принуждают выживать в этой системе, приспосабливаться. И жить по понятиям — по-другому не выжить.
Не одна Россия модернизируется. Есть множество стран с культурами, совсем не похожими на английскую и американскую…
Для того чтобы что-то делать, нужно знать страну. Ведь задача социологов и всех прочих — не давать рекомендации, что нужно делать, а говорить, чего делать нельзя. А если делать, то какие будут последствия. И это должны делать политики, основываясь на более-менее адекватном знании, а не эксперты из Гарварда. Но и политиков, и политики в нашей стране пока нет, а есть импортированные и приспособленные под понятийный уклад государственные институты.