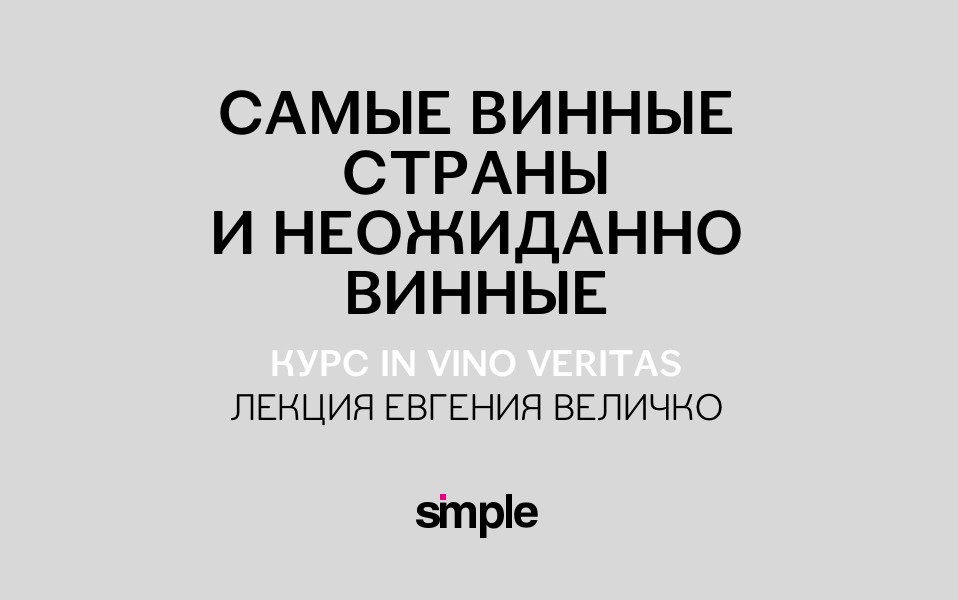20.08.2018
Севастопольский рассказ
Кем была тетя Люба по профессии, я никогда не знал. Сколько я ее помню, она была просто дяди Мотиной женой — очень любящей и очень любимой.
Она была толстая, смешливая, говорливая. Она довольно много читала и умела хорошо и увлекательно пересказывать прочитанное.
Еще она славилась на всю семью каким-то особенным, нетривиальным каким-то храпом. Об этом я даже когда-то написал целый рассказ, он называется «Мечты и звуки». Прочтите, не поленитесь, не пожалеете, он даже мне самому нравится.
Дядя Мотя был мамин старший брат. И даже сильно старший — он был вторым ребенком в семье, а мама — пятой. И последней.
Он был морской офицер, в чине, между прочим, капитана первого ранга. Но служил он не на судне, а на берегу. Он был инженер и занимался всякими портовыми сооружениями. И, кстати, не умел плавать, что многие годы служило поводом для дежурных шуток среди его родных и друзей.
Мне было все равно, где он служил и умел ли он плавать, потому что к нам он всегда приезжал в красивой капитанской форме, и это уже само по себе заметно повышало мой статус в нашем дворе.
Дядя Мотя и тетя Люба жили в Севастополе.
Когда я был ребенком младшего и среднего школьного возраста, мы с мамой почти каждое лето ездили туда, к ним. Мы проводили там примерно месяц, а иногда и больше.
Севастополь был тогда закрытым городом, и дядя Мотя всякий раз присылал нам приглашение. А потом город стал открытым, и мы ездили туда уже без всяких приглашений.
Я хорошо помню свой самый первый приезд. Я только что закончил первый класс и перешел во второй. Город как минимум на половину был все еще в послевоенных руинах, что на меня произвело сильнейшее и мрачнейшее впечатление. Я видел настоящие землянки, в которых жили реальные люди. До этого я видел такое только в кино или читал об этом в книжках.
Кроме этого мне ярко запомнилась знаменитая панорама «Оборона Севастополя», к тому времени только что восстановленная. Мне, помню, ужасно понравилось, что в настоящую телегу, нагруженную настоящим сеном и чем-то еще — кажется, пушечными ядрами, — была впряжена совсем не настоящая, а нарисованная на холсте лошадь. И как же ловко там одно переходило в другое!
А также и тетя-экскурсовод сумела-таки завладеть моим готовым на все воображением посредством той самой специфической профессионально-взволнованной интонации, которая спустя сколько-то лет стала чудовищно раздражать и нарываться на всяческое недоброе пародирование, а тогда, по малости лет, принималась за непорочно чистую монету.
Бульвар, на котором располагалась Панорама, назывался, что вполне объяснимо, Историческим. Помню, как все мы — дядя, тетя, мама и я — шли по этому Историческому бульвару и я, решив пошутить, сказал: «Истерический бульвар».
Кроме меня самого, никто не засмеялся, и это меня настолько задело и смутило, что я, пытаясь заглушить обидное молчание, стал смеяться все громче и громче. И смеялся я до тех пор, пока смех мой, которому придуманное мною шутливое название для бульвара подходило гораздо больше, чем бульвару, не перешел в неудержимую икоту.
Я вообще был необычайно смешлив в те годы. Ну, и, как вы только что заметили, пошутить я тоже любил. А то, что это не всякий раз получалось, так что ж с того…
Дядя Мотя и тетя Люба в свою очередь довольно часто приезжали в Москву и всегда останавливались у нас.
Я очень любил, когда они приезжали. И не только во фруктах было дело, хотя и это тоже. Мне казалось, что они привозили с собой какой-то неуловимый, но отчетливый черноморский дух, дух своего нарядного белокаменного города.
Последний раз они приехали к нам вместе по очень грустному поводу. У тети Любы обнаружили рак, и они прибыли на консультацию в Москву. В Москве им сказали, что нужна срочная операция, но при этом, сказал врач, тети Любино сердце в довольно плохом состоянии, и он, врач, не ручается, что оно, сердце, выдержит такую тяжелую и сложную операцию.
Решили все же рискнуть, и тетя Люба легла в больницу. Пока шла подготовка к операции, дядя Мотя, естественно, жил у нас и каждое утро уезжал в больницу, откуда возвращался поздно вечером, усталый, молчаливый, с опустошенным взглядом.
Потом была операция, и тетя Люба действительно, как и подозревал врач, умерла прямо под наркозом.
На следующий день с утра мы все — резко постаревший за один день дядя Мотя, мать, отец, мой старший брат и я — поехали в больничный морг, чтобы проститься с тетей Любой. Через день или два ее тело должны были транспортировать в Севастополь, чтобы похоронить его на местном кладбище, рядом с родственниками.
В морге я был в первый раз. Мы все встали вокруг тети Любиного тела. Дядя Мотя неотрывно и безмолвно смотрел на тети Любино лицо, а по его лицу текли слезы. Все остальные тоже заплакали. И мужчины.
А я — нет, у меня это как-то не получалось, хотя я знал, что надо, надо, что так полагается.
Но я не плакал. Я неотрывно смотрел на очень знакомое, но совершенно чужое лицо тети Любы. И я все не мог понять, как это так.
Это была, в общем-то, всего лишь вторая смерть в моей жизни. Первой, когда мне было восемь лет, умерла моя бабушка, мамина мама. Бабушка долго болела и умерла во сне. Мы жили вместе, и я спал с ней в одной комнате. Я проснулся ранним утром от голосов родителей. Они говорили тихо, чтобы не разбудить меня, но я проснулся. Я не слышал отдельных слов, но я понял, что произошло. И я, помню, плотно зажмурил глаза, притворившись спящим. Почему и зачем я так поступил, я не помню, точнее, не знаю.
После этого я долгое время боялся заснуть, потому что боялся не проснуться. Как бабушка. Со временем это прошло, но было это довольно долго, года полтора или даже два.
А теперь я стоял и оцепенело смотрел на тети Любино чужое лицо.
В какой-то момент я заметил, что из ее ноздри выглядывает некрасивая засохшая козявка. Видимо, в тот же самый момент это же самое заметил и дядя Мотя. Потому что он как-то неуверенно и робко, чуть ли не на цыпочках просеменил к ее лицу и очень бережным, очень осторожным движением, как будто боясь ее разбудить, он вынул эту самую козявку, после чего завернул ее зачем-то в свой носовой платок и положил в карман пальто.
Вот тут уже разревелся и я. И ревел я от души.
Ревел ли я оттого, что почувствовал, как неудержимо и болезненно отпал от меня в тот момент целый пласт моей прошлой жизни — со своими маленькими, но непререкаемыми до поры до времени ценностями, приоритетами, авторитетами?
Понял ли я тогда, что не только дорогие мне люди рано или поздно исчезают непонятно куда, но и связанные с ними звуки, запахи, слова, мелодии, картинки, места перебираются из чувственного мира в ненадежную дырявую память?
Понял ли я тогда, что никогда больше не приеду я в город Севастополь, который так любил в детстве?
Нет, конечно, я этого не знал, еще долгие годы после этого вынашивая какие-то призрачные планы паломничества в давно утерянный рай. Но несколько лет тому назад, после известных событий, я окончательно понял: ни-ко-гда. Never, как говорится, more.
Ничего этого я не знал и не чувствовал тогда, в тот день, когда, пятнадцатилетний, в запотевших очках, с кроличьей шапкой в руках, стоял я в промозглом больничном морге у неживого тела любимой тетки. А просто стоял и плакал, стоял и плакал.